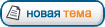Лучшее из всего, что встретилось мне до сих пор о Серже на просторах рунета:«...Когда-то я безумно любила французский шансон. Долго, с детства. Я млела от речитативов Брассенса, была очарована эмоциональностью Бреля, растекалась лужицей, слушая Адамо, которого долго считала женщиной, крутила Дассена и Азнавура, пока не начинало тошнить всех вокруг. А потом один хороший человек, под дичайший коктейль из мерло с тоником, рассказал, что был такой Серж Генcбур, «страшный собой безголосый безумно талантливый еврей, который перетрахал всех французских звезд». Определение мне понравилось и, увидев в каком-то арбатском ларечке самописную кассету, на корешке которой матричным принтером было бледно напечатано SERGE GAINSBOURG, разумеется, немедленно ее приобрела. Может, лучше не надо было? Господи, когда это было-то, году в девяносто седьмом, что ли… Очаровала игра слов в
L’ami Caouette, Марсельеза в виде регги доставила массу радости (как нас ей дрючили в школе! Разбуди среди ночи, оттарабаню, как Отче наш!). Вынос мозга произошел, когда дошло до
Manon, а добил
Lemon Incest. И это только то, что касается текстов, которые я могла сразу разобрать со слуха. Хотя бы частично. Про этот «не-голос» я вообще слов не нахожу. Наглейшее нарушение самого интимного пространства. Нежнейшее виртуальное изнасилование. Этот голос имел меня à l’aise на бульварах, в метро и на крышах московских высоток...
Случай узреть эту
sale gueule мне представился куда позднее, уже в сети. И вот это дивное чудище с огромными глазами космической красоты, капризным ртом и роскошным профилем считало себя уродом? Причем до того, что со временем это превратилось в своего рода жестокий нарциссизм? Он так часто и со вкусом говорил, что безобразен, что в конце концов сам перестал в это верить.
Глядя на него, внезапно понимаешь, что непринужденность и вальяжность – не всегда синонимы. А наглость и цинизм с непристойными, но отточенными текстами впридачу могут скрывать деликатность и стыдливость ребенка, воспитанного в строгости в семье, в которой ни о чем «таком» даже не намекают, чего он, в свою очередь стесняется еще больше. Такой вот порочный круг самоедства.
Смотрю его последний концерт Au Zenith, 88 год… Зенит, вершина, да. Чего хочет вся эта толпа, размахивающая зажигалками в такт? Зачем они пришли? Послушать Генсбура? Потешиться над Гэйнсбарром? Засвидетельствовать свое почтение стареющему неприкасаемому чудовищу? Salut, les pisseuses...
Он стар, страшен, и «не звучит». Это прощание? Нет, он еще многое собирался сделать. Да, для него каждая песня была прощанием. Никогда – приветствием. Он всегда писал и пел о любви, даже, нет, именно тогда, когда слова были о ненависти, презрении, смерти, разочаровании и безнадежности. Потому что о счастливой любви у него нет ни слова. Да и зачем? «Наведи объектив фотоаппарата на абсолютно чистое небо. На пленке ничего не будет. Но если ты снимаешь грозовое небо, все в черных тучах – это великолепно» – его слова. Тысяча граней Песни Песней, которую в его семье вряд ли читали в Песах.
Зенит. Убитые связки не слушаются его, голос срывается, он выкручивается за счет своего бесконечного артистизма и чудовищного шутовства, за счет того невероятного драйва и обаяния, той бешеной страсти, о которой не нужно кричать, лавины, которой достаточно хриплого шепота, чтобы накрыть собой все вокруг.
Сначала смерть заигрывала с ним. Начиная с того дня, когда мать хотела сделать аборт, но развернулась и ушла в ужасе. И три года жизни под «счастливой» желтой звездой, когда ты не человек, и не факт, что тебя не заберут завтра вместе со всей семьей в концлагерь. И три ночи в лесу, во время обыска в пансионе в Лиможе. «Приключенье»…
Потом он сам заигрывал с ней. Работа ночи напролет, пять пачек Житан в сутки, 45 лет – первый инфаркт. «У меня был сердечный приступ, значит, у меня есть сердце», удивленно говорит он. То ли он думал, что судьба по старой дружбе подкинет лишнюю дюжину жизней, то ли это было такое вдумчивое затяжное самоубийство…
Из темной стороны своей сущности, из с детства табуированного, перейдя границы потрепанной застенчивости, создать и выпустить на свободу своего личного монстра, своего мистера Хайда и броситься в его сомнительные объятия, раскидав по дороге все белые флаги и носовые платки. Да нет, хуже. Вывернуть себя наизнанку таким невероятным образом, чтобы получивший карт бланш Хайд стыдился оставшегося внутри недобитого Джекилла. И за ними, за двумя маскми Генсбур-Гэйнсбарр, надетыми одна на другую – третий. Вернее – первый. Люсьен Гинзбург, некрасивый, закомплексованный, лопоухий сын еврейских эмигрантов, наблюдающий заваренную им катавасию. Это он фанатично любил своих детей и ненавидел свое отражение в зеркале, это он плакался в жилетку и устраивал «музыкантские истерики» своей первой жене Элизабет –
гиппоподаме, с которой его давно ничто не связывало, это он мечтал однажды все бросить и снова заняться живописью…
…Это, черт возьми, хуже аскезы. В течение многих лет методично и демонстративно убивать себя, причем делать это не красиво, а… продуманно-неприятно. Небрежно, небрито и нетрезво. Блюя и пуская сопли перед камерой с омерзительным изяществом истинного денди. Дендизм вообще несет в себе непристойный оттенок изысканного хамства, на самой грани дурного вкуса. Его же вкус был настолько абсолютен, что он легко мог позволить себе положить на него х…вост для того, чтобы позлить почтенную публику. А ведь в дурном вкусе его обвиняли, и не раз. Например, в связи с альбомом
Rock Around The Bunker. Дескать, «об этом так нельзя». Надо самому быть ядовитым ироничным евреем, пережившим оккупацию и связанные с ней унижения, чтобы воспринимать этот
наци рок без смущения.
Что ужаснее – изнурять себя постом, как средневековые святые, и получать от этого удовольствие, или предаваться людским порокам, возведя их в энную степень, так, что самому должно быть противно? Бррр. Может быть, у него и вправду не было тормозов, может быть мощный интеллект действительно либо мешает плотскому наслаждению, либо требует такого, что у порядочных людей волосы дыбом. Хотя, сдается мне, с тормозами у него по большей части все было в порядке. Ведь Гэйнсбарр был не просто перевертышем, эта якобы «намертво приросшая» маска престарелого хулигана была выверена до мелочей. А за ней скрывалась бешеная энергия, круглосуточная работа, творец более плодовитый, чем ведущие «здоровый» образ жизни современники. Он писал, снимал и пигмалионил, прикрывшись феерией саморазрушения. Около тридцати альбомов, не говоря о том, что было написано для других, саундтреки к почти сорока картинам, не говоря о тех, где его музыка использована post factum и post mortem, куча ролей в кино (хотя актером он, кстати, был плохим), по меньшей мере четыре созданные им «звезды», из четырех снятых им коммерчески провальных фильмов два стали классикой. И одна спасенная жизнь. Если он пил как лошадь, то и вкалывал тоже как тяжеловоз.
Он ставил под сомнение и обстёбывал всё:
Приличия – зачем?
Национальный гимн – надо освежить!
Любовь – ее нет!
Жизнь – дерьмо.
Смерть – любопытная штука.
Перверсии – что ж, извольте...
#777До сих пор люди умудряются спорить, кем и чем он был – столпом французской культуры или динамитной шашкой у ее основания?
Он как будто готов был играть в это без конца, двадцать четыре часа в сутки, восемь дней в неделю.
Он был профессиональным провокатором – но не революционером, нет, спасибо. В шестьдесят восьмом, пока Ги Дебор верещал, что надо кончать с «обществом зрелищ», а парижские студенты строили баррикады, он утаптывал босыми ногами осколки разбитого сердца и одновременно упивался собственным цинизмом в номере Хилтона, и ему не было до этого дела.
À quoi bon? Суета.
В последние годы, за бесконечной цепью генсбуровских хамств и безобразий, за его сумасшедшей игрой на сломе биологически прописанных человеческих табу, за заляпанной витриной Gainsbarre le Scandaleux, видна уязвимость человека, чей успех построен на грандиозном обломе молодости, чьи немереные амбиции реализовались не там, где он того желал, который, потеряв веру в себя, был вынужден бросить art mageur, чтобы стать лучшим в art mineur.
Беседуя в интервью с каким-нибудь профессиональным идиотом вроде Сабатье, как всегда, прячась за сигаретой, прикуриваемой дрожащей рукой с бриллиантом на пальце, со своей вечной манерностью и голыми щиколотками, сверкающими между рваными джинсами и неизменными Repetto, он выглядит чертовски хрупким…
Он мог долго и мучительно умирать от цирроза, диабета или от рака легких, но и тут всех наколол – второй инфаркт – и все.
Он ушел ночью, отослав на радио последний ремикс
«Реквиема по придурку», в который, помимо прочего, подмешал свой злорадный смешок по поводу покупки манускрипта Марсельезы. В последний раз послав всех на три великие русские буквы...
...но в памяти всякого, кто его слышал, и у кого не оглохла душа, он останется навсегда!...»
нагло украдено из ЖЖ-шного блога
http://hekata.livejournal.com/ , там ещё переводов академического качества и тонкости полным-полно, досконально расшифровывающих смысловые ходы Маэстро — поэтики и музыкальности песен они не передают, естественно, но для чего тогда данная дискография?